Автор этих воспоминаний – Тамара Игнатьевна Гайдамакина (Судакова). Родилась в г. Куйбышеве Новосибирской обл. в 1936 г., здесь же окончила среднюю школу. Училась в Ташкентском сельскохозяйственном институте, окончив его с отличием, потом – в аспирантуре Омского сельскохозяйственного института (ОмСХИ, ныне – Омский государственный аграрный университет). В 1969 г. защитила кандидатскую диссертацию. Более 20 лет трудилась в ОмСХИ – это было основное место ее трудовой деятельности. С 1994 г. на пенсии. Муж, А. В. Гайдамакин, – доктор исторических наук, профессор Омского государственного университета путей сообщения. Сын, А. А. Гайдамакин, – кандидат технических наук, доцент Омской академии МВД России, полковник полиции.
Я, Гайдамакина Тамара Игнатьевна, в девичестве Судакова, родилась в сентябре 1936 г. в г. Куйбышеве Западно-Сибирского края. До 1935 г. город назывался Каинском. Этот маленький купеческий городок, один из форпостов защитной линии (для защиты от набегов степняков) был основан в 1722 г. К 50-м гг. ХХ в. население в нём составляло около 10 тыс. человек.
Здесь я прожила до 1954 г., окончила школу с серебряной медалью и уехала в Ташкент поступать в сельскохозяйственный институт. В 1959 г., окончив с отличием институт, уехала по направлению работать в Семипалатинскую обл., в Казахстан, вместе с мужем, Гайдамакиным Андреем Васильевичем. Там родился наш сын Андрей, туда же приехала к нам моя мама, которая потом не расставалась с нами до конца своей жизни.
В 1962 г. мы всей семьей перебрались в Омск, где после аспирантуры я работала 10 лет в педагогическом институте, а с 1975 г. – в сельскохозяйственном, доцентом кафедры растениеводства.
С уходом в 1994 г. на пенсию появилось время для того, чтобы подумать о прошедшей жизни, о том, как и для чего жила, что сказать детям и внукам о нашем времени. Лучший способ сказать об этом – написать, не так ли? Страшно подумать, что после нас никто и знать не будет, кто мы такие, откуда взялись, во что обошлась нам эта жизнь. Пусть узнают. Может быть, кому-то из них захочется добавить и своё слово. Так и получится история семьи.
Моя работа над текстом этих мемуарных записок завершилась в конце 2005 г.
Тамара Гайдамакина.
Кто я?
Если и есть что-либо, в чём хотела бы упрекнуть свою уже усопшую теперь маму, так это то, что она толком никогда мне не могла рассказать о прошлом нашей семьи. А мне всегда было интересно, кто мы такие, откуда и когда появились в Сибири. Кто были прадед, прабабушка, дед, отец? Никого из них я не успела застать на этом свете. А мама не любила, кажется, вспоминать. Чаще она говорила о своих братьях, о своей работе, даже песни были в основном революционные, которые они пели в своей молодости, а она – в особенности, так как участвовала в «Синей блузе» – так назывался, выражаясь современным языком, коллектив художественной самодеятельности и революционной пропаганды.
Удивительно, но она не сохранила ни документов, ни фотографий того времени (кроме, разумеется, своей трудовой книжки), ссылаясь на нашу «истребительскую» деятельность, когда мы оставались дома без всякого присмотра. Я действительно помню стоявший на кухне большой сундук, обитый полосками железа, в котором ничего доброго не было, кроме кучи каких-то бумаг, многие из которых были цветными, и из них получались красивые бумажные цепи для Нового года. Правда, ёлки мы никогда не ставили, но бумажные игрушки делать любили, наверное, выражая таким образом мечту о празднике, которого у нас никогда не было. Но мне-то лично кажется, что эти цветные бумаги появились гораздо позже, уже в более сознательном возрасте, когда мы уже умели читать.
Попав однажды в башню какого-то старого здания, приспособленного под склад школы агротехников, где мама в то время работала, мы нашли там сваленные в кучу картонные папки, набитые судебными бумагами: там были протоколы допросов, какие-то анкеты, сведения о людях с разными фамилиями, приговоры... Нас ничто тогда, наверное, не интересовало. Я вспоминаю об этом, когда смотрю фильм «Два капитана». Там мальчишка, найдя сумку утонувшего почтальона, изучил чужие письма настолько, что запомнил их на всю жизнь. Значит, мы дурнее его были, или выдумка автора была чересчур умной. А вот цветную бумагу мы оттуда выдирали как ценную находку. Хотела бы я сейчас оказаться в том же месте в тот же час. Ведь это был дореволюционный архив. Может, что-нибудь мне удалось бы найти о своем прадеде.
Прадед по матери.
По рассказам мамы, он был политическим ссыльным, имел двойную фамилию Корольков-Кривенко. В семье сохранилась память о табличке, которая была прибита на избе, где он проживал: «Здесь живёт ссыльный Корольков-Кривенко». Мы всё допытывались: почему двойная? И почему такая честь с табличкой? Мама пожимала плечами: наверное, бывает и так. Но в том-то и дело, что просто так этого не бывает. Теперь-то я знаю, что двойную фамилию разрешали носить только в особых случаях. Но предположить, что прадед был дворянином, как-то скромность не позволяет.
Может, одна из половинок фамилии была псевдонимом? Он мог быть участником польских событий 60-х гг. XIX века, в поддержку которых, как известно из Большой советской энциклопедии, выступали и иные офицеры из русского контингента, размещенного в Польше. Кто он был? Русским ли, украинцем? Офицером или рядовым участником восстания? Впрочем, вряд ли рядовой догадался бы взять себе псевдоним. А может быть, он просто жил в семье Корольковых, его сын рождён одной из девушек этой семьи и поэтому носил фамилию Корольковых?
В исторической литературе фамилия Кривенко мне тоже встречалась. Это был народоволец. Более того, недавно в монографии Н. Родигиной я нашла сведения о том, что он был сослан в Западную Сибирь. И отбывал ссылку он именно в наших краях. Но годы ссылки – начало 1880-х.
По нашей семейной легенде, в ссылке прадед женился на местной «челдонке», но через какое-то время был отправлен по этапу куда-то дальше на восток (видно, много насолил царю?!), и больше о нём ничего слышно не было. Народоволец же Кривенко, по монографии Родигиной, вернулся в Петербург, где был редактором нескольких солидных научных журналов. Его сибирская жена (а может, не жена – что-то мне не верится в такую любовь), родив сына, не захотела с ним губить свою молодость и отдала его на воспитание (а может, в работники?) плотнику. Сама же вышла замуж и куда-то канула.
Ничего-то мама не знала. Все какие-то безымянные. Ни одного имени – ни прадеда, ни прабабушки – она не называла. А их сын стал потом отцом мамы, моим дедом. Дедом Василием.
Дед – Корольков Василий.
Отчество его не знаем. С малых лет, брошенный матерью, он жил в людях в услужении. Позднее был пастухом и батраком, но, работая с плотником, освоил его дело, и, кажется, неплохо – без работы не сидел. Предложений было много – и дом срубить, и крышу покрыть, и меленку поставить, и столярничать мог. Из-за своей работы вёл кочевой образ жизни, переезжая из села в село. И женился, видимо, уже поздненько: молодые девки за него, безродного, замуж не шли, да и угла своего у него не было. Вот и женился он на бездетной вдове-солдатке по имени Александра (опять ни отчества, ни фамилии!), купил в соседнем селе амбар на слом, перевёз в Красный Яр (Михайловской волости Каинского уезда Томской губернии) и построил дом-пятистенок. Здесь и родились их дети: Павел (189? г.), Анна (1904 г.), Яков (1908 г.).
Жили не в бедности. Хотя работал только дед, достаток, похоже, был. «Держали», как говорила мама, скотину: кажется, две-три коровы, две рабочие лошади и другую мелочь. Посевов своих не было, хлеб имели оттого, что летом дети батрачили, пока отец кочевал с плотницким топором. На зиму отец кулями заготавливал рыбу, до которой были все большие охотники, мясо было свое, а огород давал всё остальное.
Бабушка была работящая, соблюдала в доме чистоту, дети были чистые, ладные, ухоженные. Дед был строгий, скор на руку. Жену свою поколачивал, подвыпив. У неё даже по этой причине выкидыш был, а одна из девочек, Маша, родившись слабенькой, вскоре умерла. В общем, всё, как у людей. В деревне деда уважали как грамотея, ходили к нему газетку послушать – один из всей деревни он был грамотный и даже выписывал газету. Умер он не своей смертью. Убили и ограбили его пьяненького ночью, когда он, получив за построенную им мельницу заработок и «клюкнув» по такому случаю, издалека возвращался домой. Никто и не дознавался, чьих рук это дело.
Бабушка Александра и ее родственники.
Бабушка была из большой семьи, есть подозрение, что у них польские корни, хотя они выходцы из Черниговской губернии. Из семьи помню только два названных мамой имени: брат Максим (мама говорила: дядя Максим) и сестра Соломея.
Бабушка Соломея жила долго, до 105 лет, причём в том же родном для нас Каинске, но лично я так ни разу не удостоилась увидеть её, она всегда для меня была легендой из-за её необычного (кстати, польского) имени[1]. В замужестве она была Рябковой.
Дядя Кеша (Иннокентий) Рябков, старший её сын, был для нас как-то доступнее, мы часто у него бывали, роднились с его детьми: дочерью Тоней и сыновьями Шурой, Петром и Анатолием. Пётр и сейчас жив, домовит и серьёзен. Шура давно умер – досрочно по болезни он был демобилизован из армии, сильно мучался с головой и умер от опухоли мозга. Он был самым добрым из них, я его помню. А Толя оказался непутёвым, спился и умер пьяным несколько лет назад. Тоня была швеёй, вышла замуж и уехала в Барабинск. Их мать, тетя Маруся, добрая и хлебосольная, тоже у нас бывала. В последний раз я её видала, когда хоронили Виктора Бера, мужа нашей младшей сестры Галины. Но теперь уже и её нет.
Дядя Вася Рябков (мама его называла, в отличие от дяди Тени, Василием Ивановичем), жил где-то неподалеку от дяди Тени (так мы звали Иннокентия Ивановича), вместе со своей матерью, бабушкой Соломеей, женой Ульяной Васильевной и дочерью Анной. Анна Васильевна была учительницей в начальных классах, работала сначала в деревне, а потом, оставшись без мужа, вернулась с дочерью Тамарой к родителям в Каинск. О себе она была высокого мнения и, как ядовито рассказывала мама, всё кокетливо потряхивала завитыми волосёнками. Эта привычка осталась у неё и в старости, но производила уже впечатление нервного тика. У них я никогда не бывала и больше ничего не знаю.
От неведомых мне других сестёр или братьев бабушки Александры есть ещё родственные нам фамилии: Гребенщиковы и Носовы. Маме они приходились двоюродными. Дядю Пашу Гребенщикова я знала как хорошего скупердяя и подлеца. Жил он на улице Здвинского, по которой я бегала в десятилетку. Ворота его дома всегда были заперты на засов, и он разговаривал с нами только через калитку, чтобы мы, не дай бог, не зашли и чего-нибудь не попросили. Помню, мне всё хотелось посмотреть растущую у него яблоню – в городе ни у кого такого фрукта не было. Даже во двор не пустил.
Мама о нём говорила, что в молодости он соблазнил красивую работницу своего отца и бросил её с ребенком. И эта Наталья в бедности мучалась с ребёнком одна, но вырастила его. А дядя Паша, оставшись в старости один после смерти своей бездетной жены тёти Лиды, через суд потребовал у Володи – сына, которого никогда не признавал и гнал с порога, алименты на собственное содержание. Суд присудил ему три рубля. Весь город смеялся этой издёвке. А войну пересидел где-то в сторожах, симулировав какую-то болезнь. И симулировал так, что действительно заболел и потом не мог от неё избавиться.
Мама всегда его проклинала ещё и потому, что он обманул её в тяжелое для нас время. Однажды ураганом с нашего домишки снесло крышу, и дядя Паша взялся её поставить на место. Потребовал за это деньги, водку, какие-то продукты, всё взял, пропил и ничего не сделал. Вот тебе и двоюродный брат!
Семью Носовых я совсем не знаю. Но сестры мои Надя и Клара с ними общались. Троюродная сестра наша Валя Носова и сейчас живёт недалеко от Нади, бывает у неё. Я впервые и пока единственный раз виделась с ней, когда отмечали Леониду (мужу Нади) девять дней.
Мама чаще говорила об отце, которого, видимо, очень любила, уважала и побаивалась. А вот о матери своей, нашей бабушке, говорила как-то односложно, и у меня сложилось впечатление, что бабушка была тихой, незаметной. Может, так оно и было в семье, где верховодил строгий дед-кормилец. Тем не менее, во время гражданской войны, когда деда уже не было в живых, на долю бабушки выпали невероятные трудности. Старший сын Павел был взят в солдаты ещё до революции, младшему Якову (Янке, как его называли дома) было 8–9 лет, маме нашей – лет 15. Через село проходили то красные, то белые. Совсем, как в фильме «Чапаев»: «белые придут – грабят, красные придут – опять же грабят». В результате был реквизирован скот, забрали и лошадей. А на последней лошадёнке колчаковцы заставили бабушку везти раненых куда-то, а дело было зимой, дорога была дальняя. И оставив на детей свое разорённое хозяйство, уехала бабушка в эти неведомые дали, и вернулась нескоро, вся в тифу. Еле выжила, всё плакала и ничего не рассказывала. А когда вернулся Павел с красными и остался в Каинске, к нему перебралась в город и вся семья. Умерла бабушка в начале 30-х годов из-за болезни печени, увидав-таки свою старшую внучку Надю.
Корольков Павел Васильевич и его жена Александра Почекуева
Дядя Паша принимал участие в войне с Японией в 1945-м, а уже в следующем году умер от рака горла. Перед войной он был председателем исполкома в Большеречье, где и женился на Почекуевой Александре. Детей у них не было. После смерти дяди Паши тётя Шура уехала в Омск и была замужем за капитаном речного флота. Когда мы стали жить в Омске, мама её разыскала, она жила в Городке Водников.
Корольков Яков Васильевич
Дядя Яша не вернулся с Финской войны (зима 1939 года), о которой в советское время почти не знали. Долгое время он считался без вести пропавшим, а его жена, Варвара Васильевна Клюева, всё время подозревала, что мы его прячем от неё, и даже сына своего, Юру Королькова, присылала к нам на воспитание с тайной надеждой, что от сына-то он не сбежит. Теперь Юра живет в Одессе, у него двое детей – Олег и Марина.
Мама – Королькова Анна Васильевна.
Она была средним в семье ребёнком, была нянькой младшему брату Якову (Яну). Он так её и звал всю жизнь – нянька. В семье её любили, она была доброй, весёлой певуньей. Любила цветы, и все окна в доме уставляла горшками и крынками с геранями, на удивление деревенским, у которых это как-то было не принято. Любовь к гераням у неё сохранилась до самой смерти, с чем мне даже приходилось бороться, так как горшки стояли на окнах в три ряда, закрывая свет, из-за чего стебли вытягивались, не ветвились и стояли почти без листьев. В школе она, в отличие от братьев, практически не училась (кроме одного-двух классов церковноприходской школы). Но, переехав в город (в начале 20-х годов), научилась читать и даже, по её словам, писала письма. Хотя мне как-то не верится, так как я видела, с каким трудом она расписывалась. Буквы еле угадывались.
Пока жила в деревне, пела в церковном хоре. Летом нанималась к людям за хлеб работать – сено косить, лён дергать, снопы ставить, хлеб жать.
В 16 лет её выдали замуж за Ракова Николая (?). Не уверена, что именно так его звали. Я его видела, он приезжал в город уже после войны, похоже, с сыном. Она его не любила и сбежала от него в город. Он долго не женился, а женившись, бил смертным боем жену, и, видимо, так и забил. Приезжал он уже вдовым, и хотя нас у мамы было четверо, уговаривал выйти за него снова. А она смеялась и говорила: «С ума сошел». А может он и её бил, отчего она сбежала? Она не любила даже вспоминать об этом.
Королькова Анна Васильевна
В городе она работала в рабочей столовой то посудницей, то официанткой, позже поваром в техникумовской столовой. В отличие от неё, братья были здесь на виду, старший работал в военкомате. Дядя Паша ещё до революции служил в царской армии, а после – перешёл к красным, и все его тогдашние друзья теперь похоронены в Каинске (Куйбышеве) у памятника «Борцам за власть Советов» – они погибли во время боёв с колчаковцами. Дядя Яша был тогда совсем молодой, он вращался в комсомольских кругах, был корреспондентом местной газеты, писал агитки, стихи, материалы для газеты. Сохранились вырезки из этих газет, и даже была его тетрадь, в которой была записана его рукой сочиненная им пьеса в стихах, видимо, для агитколлектива. Очень примитивно. Но, наверное, для того времени это была нужная вещь, так как там бичевали кулаков, разоблачали их происки, а беднота поднимала голову и решительно рвалась в бой.
Мама оказалась втянутой в эту шумную жизнь. Молодёжный агитколлектив назывался «Синие блузы», таких в стране в то время было много. Здесь пригодились и её таланты – и пение, и задор, и умение шить. Костюмы для выступлений ведь шили сами по ночам после работы и репетиций. Об этом времени она всегда вспоминала с блеском в глазах как о лучших годах своей жизни. И всегда при этом напевала революционные песни: «Смело мы в бой пойдём», «Мы – кузнецы, и дух наш молод», «Вихри враждебные». В молодости она была привлекательной, весёлой, активной и, видимо, пользовалась вниманием. Кажется, у неё даже была возможность изменить жизнь к лучшему: посылали, как это тогда часто бывало, «учиться на артистку», но мать её, конечно, не пустила. К тому времени братья уже уехали – Паша в Омск, Яша – в Томск, они учились, а мама осталась при бабушке, и даже когда бабушка умерла, братья не приехали её хоронить. Когда она вспоминала об этом, она почти всегда плакала от обиды.
Тестов Дмитрий Ильич
Замужество не удалось: Тестов Дмитрий Ильич, её второй муж и отец Нади, уехав в Омск (рабфак, потом военное училище), больше не вернулся. Мама, приехав туда на поиски пропавшего мужа, нашла в его квартире женщину, которая назвалась его женой. Без объяснений она вернулась домой. Третий муж, наш с Кларой отец, Судаков Игнатий Михайлович, будучи исключённым из партии в период партийных чисток и «борьбы с ежовщиной», спился и умер в декабре 1938 года под приготовленной петлёй – от разрыва сердца. Хворостьянов Андрей Иванович, за которого мама вышла в 1940 году, работал в Дорстрое трактористом. В ноябре 1941 года он был взят на фронт, а уже в марте 1942-го был сначала ранен, а потом погиб под Смоленском при бомбежке санитарного поезда, всю войну и даже после войны до 1948 года он числился без вести пропавшим. В то время семьи пропавших без вести не получали никакой помощи, потому что считалось, что они могли оказаться в плену, а это приравнивалось к измене Родине. Так что его дочь Галина, родившаяся в ноябре же 1941 года, так и не увидевшая отца, пенсию за него стала получать, уже учась в школе.
Отец – Судаков Игнатий Михайлович.
Если мама и говорила об отце, то это было непременно плохое, связанное с пьянкой, с побоями. Я всегда удивлялась: зачем было с ним жить, если он был таким? Мама как-то неопределенно пожимала плечами и ничего не отвечала. А ведь они не остановились на рождении Клары в 1933 году, когда Наде было 5 лет и было ясно, что он – совсем не подходящий для неё отчим. Пьяный, он гонялся за ними, грозя убить обеих. Но понадобилось родить ещё и меня...
Я спрашивала маму: «Почему ты вышла за него замуж? Ты любила его?» Она опять пожимала плечами и отвечала: «Да он мне проходу не давал». А про любовь опять ни слова. Я не раз говорила об этом с Надей, и хотя она от моего отца немало страдала, кое-что всё-таки удалось узнать о нём. Он был умным, грамотным для того времени человеком, весёлым и симпатичным. Неплохо пел, его любили в компаниях, на работе хорошо отзывались как о работнике. Наверное, мама всё-таки любила его, да и надежда была на семью, мужчину в доме. Построил дом, в котором мы потом худо-бедно, но жили до 1956 года.
О происхождении отца мало известно. Со слов мамы, он был неродным сыном (пасынок?) в семье Ивановых в с. Карачи. Кто такие Ивановы? Кроме него самого, был ещё старший брат Степан, у которого колчаковцы во время гражданской войны на спине вырезали ремни. Наверное, он тоже был Судаковым. Ивановыми были младшие, имён которых не знаю. Видимо, Иванов – второй муж матери нашего отца, т. е. отчим. Была сестра Аксинья, мама говорила, что Клара на неё очень похожа. Отец женился на маме вторым браком. У первой жены остался его сын Георгий, Гоша. Кстати, маме отец назвался при знакомстве именно этим именем, Гошей. Так она его и звала всегда. Позже, когда Надя уже работала на Куйбышевском молкомбинате, Гоша Судаков приехал туда работать, и Надя его знала.
Мой отец был батраком, когда началась в этих краях гражданская война, и, понятное дело, он 16-и лет ушел с красными. Прошёл он всю Сибирь до Дальнего Востока, но был сильно изранен, валялся по госпиталям и вернулся домой хромой (у него была разбита коленная чашечка), психованный и больной. Не знаю, где он получил образование, но был он грамотным для того времени, по словам Нади, был «башковитый». Как коммуниста и участника гражданской войны, его направили на хорошую должность: работал бухгалтером, фининспектором, а во время коллективизации – даже председателем колхоза в Осинцево. В колхозе дело у него не клеилось, к тому же заболел чахоткой, и благодаря этому ему удалось вернуться в Каинск. Во время партийных чисток 1937 года на него был донос, на основании которого из партии он был исключён, хотя при должности (заведовал каким-то складом) оставлен. Морально сильно был уязвлён таким поворотом, пытался что-то доказать, но получалось всё хуже. Вот тут-то и пошли у него запои, погромы, побои, беготня мамы по соседям. Через какое-то время дело его пересматривалось, можно было в партии восстановиться, но он уже не захотел или не смог.
В декабре 1938 года в очередном запое он опять гонял маму с Надей, они спрятались у соседей. Вернулся домой, зашёл в коровник, сделал петлю, чтобы повеситься, даже надел её, но верёвка была слишком длинная. Так с верёвкой его и нашли на полу. У него произошел, как тогда говорили, «разрыв сердца» – инфаркт. Надя утверждает, что его можно было спасти, так как, скорее всего, он ещё долго был жив. Дело в том, что, когда за ним пришли в морг, он лежал в позе спящего, подложив руку под голову. Но ведь тогда медицина инфаркт ещё не лечила. В свидетельстве о смерти в графе «причина смерти» указали самоубийство. Ведь не могли же врачи признаться, что ещё живого мужика положили в морг.
Наш дом.
Всё, что удалось нажить – это построенный отцом домишко из старого разобранного дома и сырых брёвен. Дом состоял из одной комнаты, кухни, сеней и коровника. В комнате – две железные кровати, двуспальная и односпальная, комод и стол. Стены голые, над кроватями два портрета – дяди Яши и мамы. Комод покрыт чёрной филейной скатертью, вышитой зелёным гарусом. Во время войны этот комод обменяли на картошку, которую даже чистить было нельзя – уж очень мелкая. Её целиком бросали в суп, и суп был горький.
На узкой кровати спала Надя, на другой – мама, я и Галина. Клара спала на печке. Позже появилась небольшая подростковая кровать, на ней стала спать Клара, а я перебралась на печку. На кровати были кружевные подзоры, вязанные самой мамой, и на подушках были белые, снимаемые на ночь (обязательно!) наволочки с кружевными вставкам, на которых красовались выпуклыми лепестками белые розы. Я хорошо их запомнила, так как ежедневно убирала постель в период своего сидения дома с маленькой Галиной. На полу – домотканые половики из крашенного тряпья. Широкие половицы в комнате были крашенными в тёмный красно-коричневый цвет, а в кухне пол не крашен, и его приходилось при мытье скоблить широким ножом-скобелем или тереть голиком. Входная дверь и порог в кухне тоже были покрашены в такой же запомнившийся мне тёмный цвет.
На кухне – стол, покрытый дырявой бесцветной клеёнкой, пустой сундук (там лежали какие-то бумаги, наверное, документы, которые мы постепенно дорвали). У печки в простенке зимой стоял курятник с десятком красных кур. Слева от двери каждую зиму жил телёнок, постоянно тут же мочившийся, отчего мокрый угол, в конце концов, сгнил и вывалился. Дело было зимой, и я помню, как плакала мама, забивая промерзающую дыру глиной, которую накопала в подполе. Дыра была слишком большая, и глина не держалась, нужны были кирпичи, а где их возьмёшь?
Одежды было мало; то, что не носили на себе, висело на гвоздях – над теленком и в простенках у изголовья кровати. Так выглядела наша нищета.
Как мы жили.
Мама работала то поваром, то посудницей. Иногда приносила в вёдрах для коровы картофельные очистки, а под ними – бидончик супа или остатки каши, и плакала, глядя, как мы всё это поглощали, не разбирая вкуса. Я только сейчас понимаю, как они рисковала – и за меньшее хищение людей судили и отправляли в лагеря.
Помимо работы в столовой, маму часто вместе с другими женщинами увозили на другие работы: ловить брёвна в реке от разрушенных плотов, пилить их на дрова. На ней же лежала обязанность заготовки сена для нашей кормилицы-коровы, дров и угля на зиму. Это ведь только сказать легко – «заготовить», а за этим словом: поехать, накосить, снова поехать, чтобы сгрести, скопнить, достать где-то телегу, впрячь в неё корову, снова поехать – погрузить, увязать, затянуть, привезти на выбивающейся из сил коровёнке. А если вывозка приходится на зиму? Мне вспоминается ужас, когда мама с плачем и смехом рассказывали с соседкой, как за ними увязались волки, а они кричали, гремели чем-то, чтобы их отогнать. А иногда с трудом заготовленное сено исчезало раньше, чем его удавалось вывезти.
Военные годы я уже помню и пишу по своим живым впечатлениям. Маму мы почти не видели, она уходила на работу очень рано. Ведь кухня работала на дровах и угле. Печь надо было растопить, натаскать воду, нагреть её, перемыть продукты, почистить овощи, приготовить – в 8 часов столовая должна быть открыта. А вечером, после закрытия столовой – перемыть посуду, почистить котлы-кастрюли, почистить печь, заготовить топливо, получить продукты, согласовать меню и расход продуктов. И приходила она домой, когда мы уже спали.
Из этого времени мама запомнилась мне нервной, дёрганной, часто срывающейся в крик и дающей волю рукам. Всё грозила нам за непослушание: уйду от вас, брошусь под поезд, утоплюсь, удавлюсь... А мы все вопили навзрыд и на разные голоса.
Не помню, какие провинности числились за нами, но помню, как пришла к нам соседка тётя Клава Кондратенко, председатель уличного комитета, «уличная», – её обязанностью было следить за порядком на улице и доводить населению все распоряжения, поступающие сверху. С ней была незнакомая женщина. О чём шла речь, я не знала, но реакция мамы была потрясающей: она хватала нас, как щенят, толкала им в руки и страшно кричала: «Берите их тоже, всё берите, у меня больше ничего нет!» Потом, по поздним её рассказам, эти картинки совместились: так собирали недоимки, невыплаченные налоги за дом, за корову, ещё за что-то. За невыплату описывали имущество, и оно распродавалось с молотка, а лишиться коровы для нас означало гибель.
После войны мама работала мало, у неё был сильный радикулит, нажитый непосильной работой на разного рода заготовках, вылавливании брёвен из ледяной воды. Она говорила: «Паларыч расшиб». Других болезней не помню. Малярию она перенесла ещё во время войны, но вот этот радикулит я запомнила, потому что как раз пришла телеграмма, что умер дядя Паша, а мама лежала и двинуться не могла. Помню, я растирала её спину амиловым спиртом, пихтовым маслом. Ужасная вонь. Телеграмму я сама получила и не смогла скрыть, она сразу догадалась о неладном. Это было в 1946 году. Да ещё грыжа, примерно такого же происхождения. Я сама её провожала на операцию. По-моему, с тех пор она больше не работала.
Глядя на дерущихся между собой Клару и Галину и будучи не в силах их примирить, мама часто говорила: «Нет, мне с вами не жить. Буду жить с Тамарой». Так оно и получилось. После рождения Андрейки мама приехала к нам в 1959 году, и с тех пор почти всё время жила в нашей семье. Исключением был один год – с августа 1961 по июль 1962-го, когда она жила в Архангельске у Клары, у которой в тот год родилась Марина. А когда я в 1962 году была оперирована, она вернулась к нам и перенесла ещё три моих операции, наши с Андреем аспирантуры, переезды. И так до самой смерти в сентябре 1990 года.
Сёстры.
Наша сборная команда (от разных отцов) состояла из четырёх сестёр по матери. Надя была Тестова, мы с Кларой – Судаковы, а Галина – Хворостьянова.
Наша старшая сестра Надя мне всегда казалась очень красивой. Черноглазая, добрая, она никогда не наказывала нас, хотя у неё были все на это полномочия. Только в жизни ей не очень-то повезло. Ей пришлось бросить школу где-то в девятом, наверное, классе. В детстве у неё была эпилепсия (кажется, у Тестовых это было наследственным: я помню, как каждую ночь билась в припадке её тётка, сестра отца, ночевавшая у нас). Видимо, до конца вылечить её не удалось: у неё часто болела голова, и врачи не рекомендовали учиться дальше. Мама устроила её работать лоточницей, она должна была торговать на улице. Я сама видела её с лотком на шее на улице Папшева, против столовой, где работала мама. Это было зимой, у неё костенели от мороза руки, она даже деньги не могла считать. А на лотке – мелочной товар и шкалики с водкой. Наверное, её обманывали и грабили выпивохи, которым был этот товар интересен. Я помню, как она рассказывала об этом маме, и они обе плакали. Наверное, этим она вскоре не стала заниматься, так как вместо заработка приходилось платить из своего кармана.
Потом она училась в школе маслоделов, которая располагалась в 48-м совхозе, в 4 км от города, жила в основном там, но и приходила домой. Получив специальность, работала в Омской области в Кам-Курске, потом вернулась в Куйбышев и жила там до того времени, пока вдруг не приехал Леонид Рахманин, с которым они дружили ещё в школе. Семья Рахманиных уже давно жила в Красноярске. Леонид отслужил в армии (радистом в морфлоте) и работал в каком-то техническом училище.
Они уехали в Красноярск, там у них родилась дочь Ирина. Семья Леонида к Наде относилась недружелюбно, хотя она работала и приносила денег не меньше других. Даже рождение ребёнка не изменило ситуации. Стирать пелёнки ей не разрешали в квартире и указали место в подполе. Они вернулись в Куйбышев. Всё бы можно было перетерпеть, но Леонид оказался горьким пьяницей. И каких только диких случаев не пришлось пережить Наде. К моему возвращению из института она совершенно изменилась. Она стала крикливой, истеричной и совершенно не терпела Леонида и его пьянчужек-друзей. Так изменила её эта жизнь.
Справедливости ради надо сказать, что, тем не менее, он очень любил своих «доченек», обеспечил семью квартирой, каким-никаким достатком. Надя даже не работала, пока доченьки не окончили школу. Ирина поступила в институт и стала технологом молочного дела, а Лена окончила строительный техникум. Обе вышли замуж, и отец обеим помогал материально и морально до самой смерти. За несколько лет до смерти у него развился облитерирующий артрит[2]. Свело руки, ноги, и он не смог уже заниматься своим любимым делом (ремонтом телевизоров и другой радиоаппаратуры), которое давало им средства к существованию, потом он не смог вообще ходить. И умер в присутствии всей семьи, обе дочери были рядом. Надя осталась одна со своей маленькой пенсией. У дочерей своя жизнь.
Клара, родная мне и по отцу, была мне не так близка, как Надя. Характер у неё, прямо скажу, ядовитый. В детстве была драчуньей, любила и унизить при этом. Её просто выводило из себя, что я не плачу при побоях. Она однажды даже сама заплакала от досады: «Я её бью, а она не плачет». Когда я это поняла, я уж тем более старалась не заплакать. Это была моя маленькая месть.
С мамой у неё тоже отношения были всегда натянутые. Помню, у них часто были схватки, и Клара всё грозила уйти из дома в общежитие. В ней был какой-то врожденный большевизм. Мне кажется, она вела себя так из каких-то своих идейных соображений, в которых главное было – настоять на своём. Права может быть только она, всё остальное не имело право на существование, подлежало искоренению. Вот она и искореняла. Она всю жизнь боролась если не делом, то хотя бы словами. Из-за своего характера она чуть себе жизнь не сломала, потеряла человека, которого любила. Он просто ушел к другой. А она ему в отместку сразу вышла замуж за хулиганистого сына соседей Володю Крашенко, решив поставить его на путь истинный силой своей воли. Но нашла коса на камень, и через неделю она вернулась из своего дурацкого замужества.
Училась она сначала в педучилище после семилетки, потом работала в школе пионервожатой, закончила заочно исторический факультет Новосибирского пединститута, одновременно работая уже в горкоме комсомола, где и дослужилась до должности секретаря горкома.
Получив однажды путевку в комсомольский санаторий, познакомилась там с Навагиным Александром Ивановичем, комсомольским работником из Архангельска, вышла за него замуж, с тех пор проживает там, на севере дальнем. Оба с мужем они стали партийными работниками. Он работал в обкоме партии зав. орготделом, а она – зав. парткабинетом в речном порту. У них двое детей – Марина и Павел. У Марины сейчас два сына, а Павел так пока и не женился.
Галина родилась через несколько месяцев после начала войны, но уверяет, что помнит, как провожала отца на войну, как стояли с мамой на перроне вокзала в Барабинске (отца провожала только мама, едва выйдя из роддома). А ещё она утверждает, что всю войну на ней держалось всё наше хозяйство – и огород, и корова. Одна сердобольная женщина, как-то наслушавшись её россказней, упрекнула Надю за трудную судьбу Галины: «Вы-то вот учились, а ей работать за вас пришлось всю войну». Надя даже задохнулась от возмущения: «А вы её спросили, с какого она года и сколько ей было лет во время войны?» Тут уж пришла очередь широко раскрыть глаза собеседнице.
Весёлая, бедовая наша сестричка в школу ходила только из-под палки, еле дотянула до седьмого класса. А экзамены за 7 класс и совсем не пошла сдавать: «У нас и так в семье учёных много. Кому-то надо и землю копать». И пошла в строители. За несколько недель обучения профессии получила специальность «маляр-плиточник». На этом она решила, что теперь она свободна от каких-либо обязанностей перед семьёй, что приобрела полную независимость. И понеслось!.. Её жизнь – это никаким разумом не управляемый процесс с начала и до конца. Она ли кружила головы парням или они ей, бог его знает. Только историй разного рода на её счету – не счесть.
Она приехала к нам в Переменовку с мамой, когда у нас c Андреем родился сын. Мама побоялась оставить её в Куйбышеве, потому что она в очередной раз собралась там замуж, хотя ей ещё не было 18-и. Но переписка продолжалась (письма она разбрасывала, где попало). Парень был взят в армию, но надеялся, что она его будет ждать, писал ей: «Моя жена». А она за три-четыре месяца в деревне закрутила сразу с тремя и уже в марте вышла замуж за местного тракториста Виктора Бера. Моё сопротивление этому браку объяснила тем, что Виктор немец. Немецкое село возмущалось и косилось на меня, а Виктор несколько раз приходил с угрозами, и дело чуть только до драки не доходило. Потом они уехали в Красноярский край. Там у них родилась Ольга. Когда мы вернулись из Казахстана в Куйбышев, они уже оказались там, жили всей семьёй у Нади, у которой была только одна комната и четверо самих. Совести у этой Галины не было никогда. Виктор давно понял её суть и однажды под рюмочку как-то извинялся передо мной за своё поведение в Переменовке.
Виктор погиб, я считаю, тоже из-за её сумасбродства. Она вздумала навестить свою подружку, проживающую в селе: «Давай, паразит, приезжай после работы ко мне, за грибами съездим». Это у неё такие ласковые для мужа прозвища были: паразит, Гитлер проклятый. – «Да ты что, богородица (так он её звал), я соседке должен после работы ванну поставить». – «Никаких соседок, приезжай, и всё тут!» Вот и съездили за грибами: мальчишка не справился с мотоциклом, объезжая стоящий автобус. Галина просто свалилась, без повреждений, так как сидела на заднем сиденье верхом. А Виктор сидел в коляске, держа на руках подружкину дочку. Коляска перевернулась, он закрыл собой девочку и – головой об асфальт. Потом его долго трясли по сельским дорогам, чтобы доставить в больницу, а это было далеко от города. И в больнице он умер.
После его смерти Галину как с цепи сорвало. Мужик за мужиком, пьянки, курить стала: «Бессонница, всё с Витей разговариваю». Витя оставил её в двухкомнатной квартире в коттедже, установил там ванну, сделал туалет (коттеджи были старого типа, полнометражные, но без удобств). Был сарай с погребком – всё честь по чести, по-хозяйски. Всё потеряла из-за мужиков. Вышла замуж, а квартиру за тысячу рублей уступила брату нового мужа. Вслед за этим муж её выгнал, оставив у себя даже мебель, которую мы ей передали, обновив свою. И осталась она с двумя детьми на улице. Моталась по квартирам, потом уехала в деревню – в одну, другую, на Украину с очередным мужиком. Вернулась без денег, без вещей, без документов, без мужа, только дети опять на шее вечной обузой.
Ольга, старшая дочь Галины, закончив училище по мясопереработке, немного работала в мясокомбинате, а потом уехала в Новосибирск, поступила на завод им. Чкалова, потом забрала к себе брата Сергея. Сергей ушёл в армию с завода и вернулся другим человеком. Сейчас он как знаток восточных единоборств содержит тренировочный зал, был телохранителем, тренером, занимался коммерцией. Женился, у него растёт сын Максим. Ольга вышла замуж, но неудачно. На Украине нахваталась чернобыльской радиации, всё время болела, впрочем, никому не жалуясь. А в последние годы, оказывается, болела ещё и после сотрясения мозга. Были приступы эпилепсии, и 17 июня 2000 года умерла в коме.
А Галину вставший на ноги Сергей привез из деревни в Новосибирск, купил ей дачный домик, где порядок, пока была жива, наводила Ольга. В этом домике Галина и погибла страшной смертью. Наверное, по пьяной лавочке не углядела она за печкой. Ночью случился пожар, и сгорела наша горемычная безалаберная сестричка. Случилось это ещё в феврале 2004 года, а узнали мы об этом только что, в октябре. Сергей не посчитал нужным нас об этом уведомить. Уже месяц прошёл после этого известия, а я всё плачу о ней, как вспомню…
О себе. О себе труднее писать, личные оценки всегда грешат субъективизмом, но раз уж взялась, попытаюсь назвать хотя бы факты. А оценки будут давать другие.
В школу я пошла в 1943 году, семи лет, хотя в то время принимали с восьми. Я выплакала у мамы эту раннюю учебу, так как уходили учиться все мои друзья и подруги. Мы все оказались в разных школах г. Куйбышева Новосибирской области: Надя – в 1-й, Клара – в 3-й, я – в 5-й. Эта школа размещалась против горсада, в бывшем здании почты на улице Ленина. Здесь я проучилась первый, второй и половину третьего класса. Училась легко, так как ещё до школы уже умела читать, считать и писать. Трудности были только при чтении по слогам, потому что я читала уже словами, а меня всё пытались выровнять с другими.
Я отлично помню классы, в которых училась, даже парты, даже соседей по парте. Помню свою первую учительницу, её звали Анастасия Васильевна Евграфова. Помню, что на стене в первом классе висело подобие открытого журнала, в котором против моей фамилии всегда были полоски красного и зелёного цвета, что соответствовало «отлично» и «хорошо», а синие, коричневые и чёрные значили «удовлетворительно», «плохо» и «очень плохо». Оценки тогда цифрами не обозначали.
В первый год нас в школе немного подкармливали после второго урока, раздавали маленькие кусочки хлеба, политые растительным маслом. Кажется, это было конопляное масло, и его специфический запах до сих пор помню.
Во втором классе наша первая учительница куда-то исчезла, и нас учили многие. Но запомнилась только одна, какая-то злобная старорежимная старуха, которая приходила на урок с длинной линейкой. Ею она, не вставая со своего места, била нас по рукам и по голове, исправляя нашу осанку или наказывая за неспокойное поведение за партой. На её уроках всегда половина класса стояла на ногах или в углу. Её звали Хиония Даниловна. Сейчас думаю, что мы, наверное, неправильно произносили её загадочное имя. Точнее было бы говорить «Феония»[3]. Но бог с ней.
В третьем классе я в школу не ходила всю третью четверть, если не больше, так как оказалась наиболее подходящей кандидатурой в няньки для Галины. После третьего класса перерыв в учебе длился по этой же причине целый год. Меня перевели в 3-ю школу, где я проучилась по шестой класс. Был уже 1950 год, в городе шло строительство соцгородка, новой школы. И в седьмом классе я училась уже в новой школе-семилетке № 10. Седьмой класс я закончила с похвальной грамотой. Моими соклассницами до конца учёбы были Света Лебеденко, Инна Плотникова, Галя Колесняк, Маша Забирова. Из мальчишек помню некоторых, но продолжали со мной учиться и в десятилетке только Павлик Захаров, Коля Куликов. В десятилетке (школа № 1) мы снова встретились с моими одноклассницами из 3-й школы: Гутей Дедюхиной, Галей Сивцовой, Галей Мироновой. В девятом классе нас объединили с уменьшившимся 9Д классом, в котором учился и Гайдамакин Андрей.
После окончания школы я получила аттестат зрелости с серебряной медалью. Умудрилась в письменной работе по тригонометрии сделать лишнее действие вместо применения известной формулы. Новосибирск, где утверждали медалистов, не согласился с пятёркой, которую поставила школьная комиссия. Ну, ничего, я не в претензии, тем более что Галя Сивцова и Маша Забирова, которых я считала более сильными в учебе, тоже получили только серебро. Из пяти медалистов в нашем классе золотую получил только Саша Агальцев. Он же оказался единственным золотым медалистом из пяти классов того выпуска.
Документы решила посылать в Тимирязевскую сельскохозяйственную академию. Мне медаль, видно, духу придала, возомнила, что запросто в Москве учиться буду. А сельскохозяйственный профиль обучения выбрала по двум причинам: во-первых, с пятого класса решила не иначе, как стать Мичуриным, выращивать плодовые растения; во-вторых, я могла рассчитывать при обучении только на стипендию, а она была повыше в горных и сельскохозяйственных вузах. И как меня ни уламывали Агальцев с Гайдамакиным (которые жили с отцами, и у них этой проблемы не было) поехать вместе с ними поступать в Томский университет, я понимала, что это для меня равносильно самоубийству. Может, и сильно сказано, но сельскохозяйственный вуз спас моё образование.
Москва же не спешила принять меня без конкурса. Уже в вузах шли вступительные экзамены, а мне – ни ответа, ни привета. И только в начале августа, когда начали проводить отбор по конкурсу, академия решила, что без Сибири можно обойтись. Спасибо, догадались сообщить об отказе телеграммой с вопросом: куда направлять документы? У меня были адреса Новосибирского и Ташкентского сельскохозяйственных институтов. Но в Новосибирском не было плодоовощного факультета, к тому же у меня просто-напросто не было зимней одежды, и я рассчитывала, что в жарком Ташкенте она мне не понадобится.
Время показало, что расчёт был верным. Я проучилась на одну стипендию и без единого пальто и даже зимних ботинок, тем более – сапог. Помогало также и то, что почти каждую сессию я получала повышенную стипендию – около 400 руб., что примерно на 70–80 руб. было больше обычной. Правда, я не могла себе почти ничего покупать из одежды и редко покупала пирожки на переменках: всё уходило на питание вскладчину, да от кино и театров совсем мы не могли отказаться – часто ходили или группой, коллективно, или нашей комнатой. Так что одевалась я худо и вела себя соответственно, стараясь быть незаметной. И всегда недоверчиво относилась к парням, когда кто-то из них начинал проявлять ко мне внимание. Мне казалось, что надо мной издеваются. Но это уже отдельный разговор.
А замуж я вышла за своего верного Гайдамакина Андрея. Он очень меня любил, это просто удивительно. Не знаю, чем я заслужила такую любовь. В школе мы не дружили, но симпатизировали друг другу. Разъехались в разные города, но в Томске он не поступил в университет, и его взяли в армию. Мы переписывались, и после армии он поступил в Ташкенте в Среднеазиатский университет. Не сразу у нас наладились отношения, он даже вернулся в Томск. Но к моему возвращению в Куйбышев он приехал тоже, и мы решили все наши вопросы.
Мы уехали с ним в Казахстан, где родился наш сын. Проработали там два года – я экономистом, а Андрей работал учителем в школе. Потом перебрались в Куйбышев, работали – я учителем биологии в школе, он – в техникуме, преподавателем истории. Жизнь была скудной, беспросветной. И тогда мы решились сделать бросок в Омск, где я могла бы всё-таки поступить в аспирантуру, а Андрею светило место преподавателя на кафедре истории КПСС в том же сельскохозяйственном институте. Так в 1962 году мы оказались в Омске.
Гайдамакины Андрей и Тамара. Казахстан, 1960 г.
В 1965 году после окончания аспирантуры я стала работать в педагогическом институте, преподавала основы сельского хозяйства. Защитилась же только в 1969-м. В 1967 году мы решились на аспирантуру для Андрея в Москве. Это было трудным решением, но надеяться было не на кого, кроме самих себя. В 1970 году защищается Андрей. И только тогда мы выскочили, наконец, из этой проклятой нищеты.
Гайдамакины Тамара и Андрей. Омск, 1966 год.
Казалось, мы, наконец, взяли собственную судьбу за рога. С 1971 года мы оба – доценты. Зарплата у каждого повысилась втрое. Летом 1971-го мы впервые отправились в отпуск вместе с сыном (в Литву, Друскининкай). В 1972 году опять же с сыном отдыхали в Болгарии на Золотых Песках. В 1973 году вдвоём турпоездом проехали по городам Средней Азии, а в 1974 и 1976 годах отдыхали в Юрмале, на Рижском побережье – в последний раз с сыном. Жизнь, наконец, наладилась. Сын успел закончить музыкалку, в 1977 году окончил школу с медалью и поступил, практически без экзаменов, в политехнический институт, на радиофакультет, закончил его с отличием в 1982 году. И мы надеялись, что и судьба сына гарантирована.
В 1975-м я уволилась из педа и 19 следующих лет, до самой пенсии, работала доцентом в сельхозинституте на кафедре растениеводства. А Андрей ушёл из сельхоза в 1986 году и стал работать в транспортном институте, совсем рядом с нашей крошечной новой квартирой, где мы остались втроём: мы с Андреем и мама. А теперь мамы уже нет, она умерла от инфаркта в 1990 году. Сын от нас отделился ещё в 1983 году и живёт со своей семьёй отдельно, хотя и тесновато.
С началом перестройки в стране и с распадом Советского Союза вся экономика рухнула, и снова все впали в нищету. В вузах стали платить гроши, а производство развалилось вообще. Сыну пришлось уйти из дорогого его сердцу исследовательского института приборостроения, где стали платить уж совсем смешные деньги, в Высшую школу милиции. Сейчас он кандидат наук, доцент, недавно получил ещё одну звездочку и стал полковником. А Андрей свет Васильевич сделал ещё один рывок, на который мы уже и не рассчитывали: в 1997 году выдал монографию, а в феврале 1998-го защитил докторскую диссертацию. И теперь я имею мужа не просто доктора исторических наук, но и профессора, дай ему бог здоровья. В общем, хочешь жить – умей крутиться.
Из раннего детства.
Детские годы запомнились мне холодными, голодными и почему-то в чёрно-белых тонах. Мы – дети войны, как теперь говорят. Бесполезно пытаться связно рассказать о детстве, из него вспоминаются только отдельные эпизоды, и может быть, не вполне в хронологическом порядке. Мне кажется, что самое раннее событие запомнилось потому, что в семье часто говорили об этом.
...В комнате закрыты ставни, наверное, из-за жары на улице, а может быть, просто ещё рано. Пробившиеся сквозь щели между ставен полоски света располосовали крашеный пол, свет бьёт и в единственное кухонное окно. Через стол от меня сидит Надя, а я кручу в руках ножницы и вдруг швыряю их прямо ей в лицо.
Этот эпизод – уже заключительный в моём первом приключении. Оказывается, Надя за мной не уследила, и я отправилась искать маму, которая, конечно же, была на работе. Ходила долго, забрела на какую-то незнакомую улицу. Там в широкой луже (прекрасная была лужа, я её отлично помню и сейчас!) полоскалась какая-то девочка, и мы с ней всласть побродили по луже вместе, пока нас не выловила её мама. Чужая мама выяснила, что у меня есть дядя Гриша (Ильин), который работает в милиции, куда она меня и отвела. Дядя Гриша, соответственно, отвёл меня домой, где страдала потерявшая меня сестра. В ответ на её «воспитательные» слова я ножницами рассекла ей верхнюю губу и выбила зуб. Шрам заметен до сих пор, а зуб, хоть и не был молочным, вырос новый, но кривой. Мне было тогда года три.
Ёлка.
В годы войны я помню две ёлки. Правда, не знаю, какая из них была раньше. Мама работала в столовой зоотехникума. Она привела меня на второй этаж техникума в небольшую комнату, где было уже много детей, одетых кто во что. Все жались к мамам, было тихо, почему-то все говорили шёпотом. Посреди комнаты стояла ёлка, ничего на ней не сверкало: висели бумажные цепи, крашенные бумажные флажки, конфеты в бумажках, белая вата изображала снег. Мы сняли пальто, положили его в общую кучу, сваленную здесь же, в углу. Потом мама ушла, а я осталась со всеми.
Приблизившись к ёлке, я рассматривала флажки и немногие игрушки, и вдруг увидела игрушку, которую запомнила с посещения магазина. Она называлась «соловей». Ничего похожего на птичку в ней не было. По форме она напоминала маленькое яйцо, и в ней был винт с петелькой. Когда за петельку крутили туда-сюда винт, раздавался сверлящий музыкальный звук: наверное, он изображал соловьиную трель. Так или иначе, но этот соловей был моей мечтой.
Потом все встали в круг, походили хороводом вокруг ёлки, а потом раздали кулёчки с подарками. Всё это было довольно скучно. И вдруг сказали, что если кто-то споёт песенку или расскажет стихотворение, то получит игрушку с ёлки. Мне хотелось получить соловья, и я подняла руку. После стихотворения мне похлопали и дали флажок. Я сказала, что знаю ещё песенку. За песенку мне тоже похлопали, но ничего больше не дали. А соловья отдали следующей девочке. И я заплакала. Первая ёлка была самой чёрной в моей жизни.
А вторую ёлку я видела в госпитале. Много раненых привозили к нам с войны, но мы не знали о них до Нового года. Наверное, я училась в первом классе. Недалеко от школы было единственное в городе трехэтажное здание. Там и размещался госпиталь. Нам сказали, что мы пойдем выступать перед ранеными. На втором этаже этого здания оказался большой зал высотой в два этажа, а в самом центре стояла огромная ёлка, кажется, до самого потолка. Вокруг этой ёлки стояли кровати и лежали раненые. К ним вниз спускались широкие ступени. С этих ступеней мы исполняли свои номера. Своего номера я не помню, но ёлку, высокую, сильную, в два этажа, и белых людей на кроватях вокруг неё запомнила навсегда.
Калмыки.
Я училась во втором классе. У меня была полосатая, сшитая из матрасовки сумка с двумя ручками. В сумке лежали мои книжки и тетради, сшитые из газетных листов. Мы писали между строчками чернилами из сажи (такие чернила лучше варить на молоке, они меньше мажут, чем на воде) или из марганцовки – это были коричневые чернила. Чернильницу надо было носить с собой, и она болталась в специально сшитом мешочке. Лучше всего были непроливашки из пластмассы, они хотя бы не разбивались, как фарфоровые или бутылочки, хотя чернила все-таки тоже проливали. У меня была коричневая непроливашка. Она сильно проливала, и мешочек уже грозил запачкать тряпочную сумку. Кроме того, у меня была проблема: избежать стычки с сыном директрисы, который стал учиться в нашем классе и почему-то преследовал меня. Если мне придётся удирать, сумку потом придется стирать, да и с тетрадками будет беда.
Так оно и случилось. Мне пришлось удирать. Было холодно, бежать по глубокому снегу было трудно, и он уже догонял меня, как вдруг нам пришлось остановиться: бежать было некуда. Вся улица перед кинотеатром была запружена неведомыми мне людьми: широкие скуластые лица с раскосыми глазами, смуглые или грязные – не понять, странные одежды. В наших местах и татары были, и киргизы соседями жили, но эти чем-то от них отличались. Многие из них сидели прямо на снегу, на узлах, другие стояли или бродили по пятачку, как на привязи, почти не разговаривая. Мы молча стояли, смотрели во все глаза.
Потом мы узнали, что их называют калмыками. Один из них стал нашим учителем – в пятом классе он преподавал географию. Он был прекрасным человеком и очень хорошим учителем. Его звали Мацак Идрисович Идрисов. А в Сибирь к нам их выслал Сталин. Когда через несколько лет ушёл из школы и уехал Мацак Идрисович, многие плакали. Говорят, до ссылки он был у себя в Калмыкии министром. Вполне может быть.
Колбаса.
Голод – это было постоянное чувство. Хорошо, если картошки хватало. Её мы любили в любом виде. Я один год, после 3-го класса, в школу не ходила, сидела с маленькой Галиной, и моя задача была убрать постели, подмести пол, дать корове сена и сварить к возвращению из школы сестёр картошку. Сваренный картофель я высыпала на сковороду и ставила на плиту. Клубни подсыхали и поджаривались – это было очень вкусно. Весной мы ходили по огородам и искали перезимовавшие клубни. Если их помыть, порезать ломтиками и испечь на раскалённой плите, то эти чёрные вонючие кусочки с белыми пятнами крахмала казались нам лучшим лакомством. Собирали также лебеду, крапиву для супа, ходили на Савкину гриву за щавелем и диким луком. А вот мясо... Этого у нас не было.
Однажды к нам уже к ночи нагрянули гости из деревни. Деревенские родственники частенько у нас ночевали, приезжая в город по разным делам. Иногда нам кое-что от них перепадало. Вот и на этот раз из заветного мешка появилась чёрная кровяная колбаса, которую гости пожертвовали на ужин. Пока мама жарила эту колбасу, по кухне разливались такие запахи, от которых сводило желудок, и рот предательски наполнялся слюной. Наверное, и глаза выдавали желание вцепиться в это кровавое месиво. И вот сковорода на столе. Пока взрослые перед сытной закуской распивали по стопочке, я схватила кусок, не жуя, попыталась проглотить... и задохнулась. Кусок застрял в горле – и ни туда, ни сюда. Меня колотили по спине, пытались то пальцем, то вилкой вынуть застрявший кусок, а я молча извивалась от удушья.
Кусок удалось выбить из меня, но стыд от проявленной голодной жадности выгнал меня из-за стола. И это надолго запомнилось.
Компот в борще.
Мы жили на самом краю улицы. За нами было ещё два домика и две землянки. А дальше был пустырь. С нашей стороны улицы там было болото, а напротив болота во время войны размещался воинский гарнизон. Для военных там были построены длинные бараки, думаю, длиной метров 50 каждый; расположены они были в строгом порядке. Внутри они были обшиты досками. По обе стороны от центрального прохода были устроены двухэтажные нары. Там жили солдаты перед отправкой их на фронт. Здесь их обучали военному делу в течение нескольких месяцев. А офицеры предпочитали жить на квартирах в ближайших домах. Вот и у нас поселился офицер. У него было необычное имя, поэтому я запомнила: Иван Авилович Авилов.
Большую часть времени он был в гарнизоне, но в выходные дни отдыхал у нас, отсыпался. И тогда обед ему приносил солдат. Обед был в специальных судках: в одном – первое блюдо, во втором – второе, в третьем – третье. От них исходил вкусный запах, и когда офицер обедал, это было большое испытание для меня. Но однажды мне удалось отведать эти сказочные кушанья. Солдат принес обед не в трех, а в двух котелках. В одном оказался гуляш, а в другом борщ. Компот, полагающийся на третье, почему-то тоже оказался во втором судке. Солдат что-то пытался объяснить, но офицер рассердился и хотел выплеснуть такой «компот» в помойное ведро. Но мама перехватила его руку, и мы поели необыкновенное блюдо. До сих пор помню этот восторг. Вкуснее этого борща я до сих пор ничего не ела!
Буря.
После войны землянки воинского гарнизона были заброшены без присмотра, и понемногу наш хитромудрый народ их растащил. Доски, балки, стропила из этих землянок были большой ценностью. Пацаны и вернувшиеся с фронта мужики ходили туда как на работу и приносили нужную в хозяйстве древесину. Ради интереса и я ходила однажды с соседскими ребятишками и их отцом-фронтовиком. Мне поручили нести лом, но он был тяжёлый, и я его не несла, а выбрасывала вперёд перед собой, как трость, и шагала следом. В результате я пробила ломом ступню правой ноги. Но это было уже на обратном пути и недалеко от дома. А до этого мы со сверстниками с удовольствием облазили заброшенные землянки, приняли участие в отрывании широких, ещё даже не потемневших досок.
Вскоре от городка остался только забор из высокого штакетника и высокое красивое здание из хорошо обтёсанных шпал. Это была баня. Штакетник разворовали в последнюю очередь, в чём проявилась всё-таки стеснительная скромность нашего родного русского народа, желание сохранить внешнее приличие. Впрочем, желание и даже необходимость украсть потом пересилила и это слабое движение души. А баня ещё долго стояла. И дело было вовсе не в скромности нищих соседей, а в том, что при бане проживал сторож, сравнительно молодой мужик по имени Никон. У него была дочь, моя сверстница, тёзка и почти подружка. Вот с ней-то и пережили мы в этой бане страшную бурю, ураган, подобно которому мне ничего видеть не приходилось ни до, ни после.
Мы играли где-то недалеко от бани. Солнце было ярким, день тёплым, и ничего не предвещало перемен. Потемнело и почернело кругом внезапно. Рванул ливень с крупным градом и сильным ветром. Спасение мы нашли в бане, куда раньше вход нам был заказан. В бане было сухо и чисто. Дерево было светлым, будто выскобленным. Стены сотрясались от ударов ветра, что-то гремело, грохотало, завывало. Безопасности мы не чувствовали, казалось, вот-вот всё рухнет и придавит нас. От страха мы забрались на высокий полок, легли плашмя, уцепились за доски и даже глаза закрыли. Ураган не стихал, бушевал долго и неустанно.
Кончился он так же неожиданно, как начался. Когда мы решились выйти из бани, из-под чёрной, медленно уползающей грозовой тучи лился жуткий красноватый свет, солнечные лучи уже где-то пробивались, и всё кругом казалось нереальным. Все деревья были или поломаны, или вывернуты с корнем, а кусты топорщились ошмыганными прутьями. Грядки градовой каши мирно таяли в лужах, кругом была вода. Было тихо, ни птиц, ни собак, ни петухов не было слышно.
Приблизившись к дому, я его не узнала – он стоял жалкий, маленький, лысый, без шапочки-крыши. Одиноко торчала труба. А крыша стояла в центре огорода тёти Клавы, прямо на картошке. Впрочем, огород уже не был огорожен – забор лежал тут же, в грязи. А в нашем палисаднике оба тополя были сломаны. Маленький потом удалось спасти: его выпрямили, наложили шины из дощечек, обвязали тряпками, сделали распорки из верёвок, притянув к ограде, а щели замазали глиной. И он сросся. А большой пришлось убрать. В огородах же всё погибло, будучи вбито в землю градом.
В городе потом долго ещё лежали на улицах крупные стволы деревьев, торчали (ни пройти, ни проехать!) их растопыренные сучья, корни, гнили в лужах и канавах листья, обломки досок и ещё, бог знает, какого мусора.
Мак.
С этим гарнизоном связана ещё одна история, оказавшая, как мне кажется, влияние на будущее нескольких людей. Дело, видимо, было в период сенокоса. Мама и старшие сёстры запрягли в телегу Маньку, нашу маленькую комолую коровёнку красной масти, и уехали в неведомые мне края – за Савкину гриву, что, по моим представлениям, было краем света. Меня оставили присматривать за Галиной и за домом.
Наша младшенькая была хорошенькой живой толстушкой со своенравным характером, который проявлялся в ней уже тогда. Уследить за ней было совершенно невозможно. Это был толстый розовый чертёнок. Сколько я с ней намучилась! Чего только с ней не происходило! Зимой она могла босиком сигануть за дверь по снегу. Из-за неё я однажды свернула «буржуйку» и чуть не сотворила пожар. Тогда нас спасла соседка тётя Клава, случайно зашедшая к нам. Это её, Гальку, мы все бегали-разыскивали по всему околотку и находили на запредельных улицах. На лупцовку она реагировала пронзительным визгом, но всё это оставалось без положительных последствий. Мама в отчаянье от её выходок время от времени каялась: «И зачем я её родила, говорила же мне Тася – сделай аборт». Тем не менее, все её любили, даже соседи, за её беззаботность и весёлый нрав. Она всегда чего-то лопотала, забавно перевирая слова, любила петь – ну, в общем, не соскучишься. (Кстати, Тася – соседка из барака напротив нашего дома. Она делала во время войны аборты несчастным девкам, убивая плоды их скоротечной любви к солдатикам из гарнизона. Аборты в то время были запрещены, и тётя Тася даже отсидела какой-то срок в тюрьме. Её четверо собственных детей в этот период чуть с голодухи не погибли. Но, тем не менее, все выжили.)
Как я не уследила за ней! Вроде, вот здесь, только что у палисадника под скамеечкой что-то вместе городили, укладывая куклят. Отлучилась ли я от неё по каким-то делам? Оглянулась – её нет. Сбегала в дом, в огород, обежала кругом все укромные закутки. Особой тревоги не было – дело привычное. Скорее рассердилась, думаю: «Ну, погоди ты у меня, найду – отлуплю!» Вдруг кто-то, проходя мимо, говорит: «Не сестру ли ищешь? Там, в гарнизоне, много ребятишек, она там с ними». Бегу к гарнизону, а у проходной стоит часовой, не пускает. А ребятишки – вот они, в зарослях сорняков, только головёнки качаются. И все весёлые, песни поют, всяк своё.
Зову: «Галька, Галя, иди сюда!» Мне-то под забором не пролезть. А она мне: «Мы мак едим!» – «Какой мак?» Гляжу, а они-то сидят в белене! Я снова к часовому: «Пусти, дяденька, там ребятишки белены объелись!» А он пустить не может, и сам отлучиться не имеет права. Пока вызвал офицера, пока тот пришёл, я прыгала от нетерпения, вся в слезах.
Увела я весь выводок оттуда, они все поют, шатаются. Кроме Галины, там были Петька Жуков, Ваня шестипалый (Горохов), Рудик Шевелев, Галька Аринушкина (Алексеева). Развела я их по домам, где их спасали, кто как мог. Петька даже в больнице лежал, но дураком остался навсегда. Остальных поили молоком, и Галину нашу тоже. Этот «мак», кажется, повлиял на всех. Все учились плохо, все с придурью. И это вечная для меня загадка: наша Галина от рождения такая или от «мака»?
Зимние игры.
Мы с сестрой Кларой очень любили книги. Читали запоем всё – и интересное, и не очень. Хотелось знать о мире других людей. Собственная жизнь, скудная, серая, ничем не украшенная, не оставляла никакой перспективы. Кажется, мы смирились с тем, что будем так жить всегда. Но в книгах была другая жизнь! Там что-то происходило, там было тепло, красивые люди в красивых одеждах, красивые поступки. И, главное, они совсем по-другому разговаривали! Я иногда не узнавала слова, хотя знала или догадывалась об их значении и применении. Хотелось им подражать, быть на них похожими.
Страсть к книгам была такой, что мы тайком покупали тоненькие копеечные книжонки и читали их ночами при свете свечи, укреплённой на бочке из-под квашеной капусты. Это было в нашей «летней спальне» – в кладовке. Пол в кладовке был устлан полынью – средством от блох, которыми нас обильно обеспечивала наша собака Пальма.
Однажды мы прочитали книгу Гайдара «Тимур и его команда». Иной мир, другие мысли, идеальные пионеры – всё было непохоже на нас. Правда, мы тоже играли в войну, но тоже как-то не так. Просто в огромных сугробах, которые наметало зимой в нашем огороде, мы рыли извилистые ходы с разветвлениями и тайными выходами и лазили в них ползком. Задача была – не встретиться. А если встречались, то забрасывали друг друга снежками.
В книге наши сверстники были как взрослые, их отличала самодисциплина, они ставили перед собой благородные цели и добивались их выполнения. А Тимур! Какой командир!.. В общем, мы тоже захотели стать благородными.
Сначала надо было выбрать из нас Тимура, наметить благородные дела. Удалось заразить этой идеей около десятка знакомых мальчишек и девчонок. Тимуром согласился быть Вовка Рахманин с Крестьянской улицы. Он был старше нас и мы, пожалуй, могли бы ему подчиняться. «Благородных дел» придумать не могли. Но тут заторопились домой сёстры Подхватилины, Мария и Майя. Им мама, которая всю войну работала грузчицей на железной дороге и дома почти не бывала, наказала вымыть пол, и мы тут же решили, что это будет благородно – помочь им. Это мытьё нас отрезвило. Оказалось – это трудное дело. Мыть пол ещё где-то больше не захотелось. На этом «тимуровская команда» и распалась.
Красная тужурка.
С одеждой у нас всегда было туго. То, что младшие донашивали одежду старших, – это в порядке вещей. Но два платья были только моими: белое платье с оборками на кофточке, с голубым рисунком в виде квадратиков, которые уголками наезжали друг на друга. Такое же платье мама сшила и себе. Видимо, мама была тогда ещё молодой, потому что когда мы однажды шли к ней на работу, её дважды спрашивали, не сестра ли я ей.
Другое платье – байковое, красного цвета с мелкими белыми цветочками. Я носила его бессменно два года в школу, в пятом и шестом классах, и оно мне смертельно надоело, да и коротко стало. И я решила, что маме пора подумать о покупке нового. С этой целью я ускорила его старение. Лезвием бритвы долго скоблила байку в области колена, чем добилась некоторой прозрачности ткани. Увидев это образование, мама вздохнула, отрезала кусочек от пояска и пришила яркую, невыгоревшую заплату. Но это было потом.
В третьем классе у нас возникла проблема со школой: мы все оказались в одной смене, и Галину не с кем было оставлять. Выход нашли в том, что меня перевели в другую школу, и я стала учиться во вторую смену. Приходила из школы Клара (она училась в пятом классе), я надевала её красную тужурку и отправлялась учиться. Эта тужурка стоит отдельного разговора. Дело в том, что она была сшита из грубого суконного одеяла. Цвет был не то, чтобы красный, а ближе к бордо. Я помню, как она появилась.
Сразу после войны в нашем околотке начались какие-то строительные работы, и понаехало много вербованных, которых разместили по квартирам. У нас жили два парня из Белоруссии. Им выдали на работе суконные одеяла: одно было сивое, как тёти Анисьина корова, другое – красно-бордовое. Они были колючие, жёсткие. Но главное обнаружилось, когда мы расстелили их на кровати: под каждым волоском копошилась крупная серая вошь. С этим насекомым мы были хорошо знакомы. Во время войны вшивость была повсеместной и неистребимой. Вши были и в голове, и в нательных рубашках, во всех складочках и швах. Соседки друг к другу ходили не просто посудачить, но и «поискаться». Головы мазали керосином, бельё парили в зольном щёлоке, но вши не выводились...
Но как быть с одеялами? Сначала их вынесли на мороз, выбивали палками, а потом мама их варила в щёлоке. Удалось ли избавиться от них окончательно, не помню. Одно из одеял ребята отдали маме, которая не знала, в чём отправлять нас в школу, и она сшила вот эту тужурку на два возраста – для пятиклассницы и третьеклассницы. Носили мы её по очереди. Но я всегда её боялась и стыдилась. Мне всё казалось, что кто-нибудь увидит вшей. Но в следующем году Клара носила её одна. Нас снова перевели в одну смену, и меня просто оставили дома на один год – водиться с Галиной.
Победа.
Вряд ли мы, дети, представляли себе, что такое война. Все трудности, недоедания, серость жизни воспринимались, как должное. Так жили все вокруг нас. У нас было радио – это круглая чёрная тарелка, пересечённая поперёк пластиной. В центре пластины были две клеммы и один центральный винт, покрутив который, можно было усилить звук или выключить его вовсе.
Радио висело на косяке окна, возле зеркала, занимающего простенок между окнами. С радио я дружила, слушала всё, в том числе и сводки Совинформбюро: «Наши войска оставили...» или позже: «...заняли населённые пункты...». Утром слушала детские передачи «Три поросёнка», «Золотой ключик», «Пионерскую зорьку». Особенно любила концерты, поэтому знала много песен. Позже, уже в старших классах, по ночам любила слушать «Театр у микрофона». (Мама однажды спросила: «А что это такое – у Митрофана?») Обычно это были спектакли Новосибирского драмтеатра «Красный факел», монтажные спектакли оперетт, опер. К сообщению о победе это не имеет никакого отношения, просто радио было источником информации о том, что есть другой мир. И война – это часть того мира, и о войне мы знали от радио. Но о победе мы узнали не по радио.
Мы ещё спали, и проснулись от сильного стука в кухонное окно. Ставень был открыт, солнце было яркое, жёлтое. Из тёмной комнаты этот свет казался особенно сияющим. И это было главным впечатлением того утра, слившимся с криком за окном: «Вставайте – победа, победа!» Для нас это было только призывом к радости. Мы никого не ждали. Но мы тоже прыгали, радовались и не понимали, почему плачет мама.
После победы жизнь наша не изменилась, она была такой же трудной и нищей. По-прежнему хотелось есть, по-прежнему не было хлеба, было холодно и безрадостно.
Пальма.
У нас в доме всегда были кошки и собаки. Сколько сменилось кошек, я уже и не помню. Одна из них всегда сидела у меня на плече, когда я читала или делала уроки. А вот собаку я помню одну. Наверное, она долго жила у нас. Её звали Пальма. Это была дворняжка палевого цвета с короткими лапками и длинным мохнатым хвостом. Ушки тоже были длинными, нос продолговатый. У неё были красивые ласковые глаза. Она, кажется, любила всех, и мы могли с ней играть как угодно, она охотно бегала с нами и никогда зубы не показала. Жила она в сенях, регулярно приносила крупных, не по своей комплекции, щенят. Была неприхотливой и голодала вместе с нами. Я не раз замечала, что она от голода поедала ещё дымящийся на морозе наш детский кал.
не запомнился последний год её жизни. Она, видимо, была уже слишком старой. У неё под глазами образовались сначала шишки, потом их прорвало, и из них постоянно текло. Она вытирала их лапами, повизгивая от боли, и плакала. Глаза её по-прежнему смотрели ласково и жалобно. Потом у неё отнялись задние ноги. К тому же она оказалась беременной, и однажды мы обнаружили, что она родила толстого тёмного щенка. Она его кормила и, когда он уползал, зубами тянула его за ногу. Передвигаться она не могла и с трудом подтягивалась на передних лапах. Щенок тем временем подрос, стал шаловливым толстяком. Играя, набрасывался на свою старую маму, трепал её за уши, а она нисколько не сердилась, только как-то виновато отворачивала морду. Щенка мы назвали Жуком и отдали соседям, которые потом посадили его на цепь. А Пальма вдруг исчезла. Через несколько дней мы нашли её в траве за огородами, на меже. Она ушла туда, чтоб умереть. Господи, сколько же смирения, такта и преданности было в этой животине! Пример для многих людей…
Хлеб.
Мой внук даже сердится на меня, когда я заставляю его есть с хлебом, говорит: он невкусный. А для меня и сейчас хлеб – самое лучшее. Наверное, это наследие военных и долгих ещё послевоенных лет. Как сладко было долго-долго сосать крошку хлеба, пока от неё не останется на языке колючая мякина. Пока дойдешь до дому с полученной по карточкам булкой хлеба с довеском (в день на семью из пяти человек получали «кило сто»), исчезали не только довесок, но и торцовая корочка от булки, за что часто попадало. Остановиться было невозможно. Хлеб был колючий, с запахом полыни, иногда в нем попадались кусочки картофеля, но он всегда был необыкновенно вкусным и, наверное, стоил того, чтобы ради него пойти на преступление.
В тот год я не училась. У нас на квартире жила бывшая соседка со своей дочерью Марией, сверстницей и одноклассницей Нади. Тётя Даша Назарова, по поздним рассказам мамы, продав дом на Крестьянской улице, уехала с каким-то офицером, но по дороге он её где-то бросил, прихватив остатки денег. Она как-то сумела вернуться, но жилья у неё уже не было, зато вскоре родился ребёнок. Жили они у нас, спали на полу, наполовину под столом, так как места свободного больше не было – нас ведь и самих было пятеро. Вещей у них тоже не было, кроме небольшого сундучка, обитого полосками жести.
Однажды утром, когда все собирались уходить – кто в школу, кто на работу, тётя Даша за что-то сильно отругала свою дочь, отправила её в школу без завтрака и даже хлеб заперла в сундук, а ключ спрятала в карман висевшего на гвоздике халата. Случайно я видела это. И с этого момента хлеб просто не выходил у меня из головы. Вряд ли я выдержала пару часов. Пока прибирала постели, какие-то ещё дела делала, глотала голодную слюну; казалось, всё пропитал сладкий запах хлеба. Искушение было настолько велико, что я решила: только посмотрю, правда ли, что хлеб там лежит – и всё. Достала ключ, открыла сундук, и настоявшийся хлебный запах помутил остатки разума. Не удержалась, отщипнула крошку, снова закрыла сундук. Крошку долго держала на языке, сглатывая сладкую слюну, пока не осталась колючая ость. После некоторых колебаний взяла ещё крошечку... Когда я спохватилась, срез у хлебной краюшки оказался весь исклёванным, и сама краюшка заметно уменьшилась.
Маша, придя из школы, сундучок не открывала. Зато вечером моё преступление было громогласно раскрыто. Я и не запиралась, сказала, что из сундука сильно пахло хлебом, а мне хотелось есть. Втайне я надеялась на снисхождение «за чистосердечное признание». По крайней мере, по радио я часто об этом слышала. Мягко говоря, радио ввело меня в заблуждение. В тот день я это узнала точно.
Тополь.
После сильного урагана в нашем палисаднике оба тополя оказались сломанными. Один погиб окончательно, и его пришлось срубить. Другой был более коренастым, и его только перекрутило: оставались целыми (хотя и измочаленными) кора и частично древесина. Мы его выпрямили, обвязали веревками, под которые подложили дощечки (шины), а рану замазали коровяком с глиной.
Чуть не каждый день я выходила в палисадник, гладила тополь ладошками, что-то утешительное шептала – я жалела его, как человека, попавшего в беду. На моих глазах рана затягивалась, и мне казалось, что это происходит благодаря мне. Я даже боялась пропустить хотя бы день, чтобы ему не стало хуже. Я училась тогда в четвёртом классе. Весной мы сдавали кучу «выпускных» экзаменов. И перед каждым экзаменом я приходила к тополю и шептала ему: «Помоги мне». Тополь «помог» мне сдать отлично географию, русский, естествознание. Оставался экзамен по арифметике. Я его ничуть не боялась, но к тополю всё же сходила, пошепталась с ним, погладила его, как всегда.
Задачу и примеры я легко решила, вышла во двор школы одной из первых, и тут гордость моя претерпела большой удар: ответ задачи не сходился с ответами, полученными моими одноклассниками. Меня стали утешать, что скорее мой ответ правильный, а у них нет, тут же стали сообща решать задачу – пальцем по пыли, и конечно, нашли мою ошибку. Горю моему не было предела.
Мне поставили тройку даже в свидетельство об окончании начальной школы, наверное, учли мою прежнюю учёбу. Дома я ревела и топтала ногами свидетельство моего позора.
А к тополю я больше не ходила.
[1] В христианском именослове это женское имя существует в форме «Саломея».
[2] Облитерирующий эндартериит – спонтанная гангрена, хроническое заболевание периферических кровеносных сосудов человека.
[3] В традиционном русском женском именослове есть имена и Феония, и Хиония.

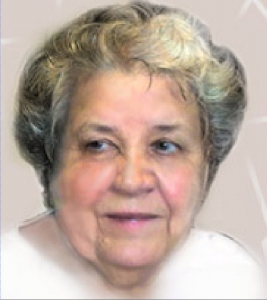






Добавить комментарий