22 июня 1941 года, 74 года назад, началась Великая Отечественная война. К юбилею Победы Государственный архив Новосибирской области подготовил сборник документов «Письма с фронта».
Письма с фронта… Грязно-коричневые почтовые карточки, знаменитые треугольники, красочные цветные военные письма с изображением Александра Невского, советского воина-артиллериста… Сколько их прошло за годы войны через руки почтальонов! И насколько важна была эта «единственная, тонкая связующая нить с фронтом, которая в любой момент могла оборваться»!
Недавно изданная книга «Письма с фронта» — подарок ветеранам войны к 60-летию Победы. В ней использованы, в основном, архивные, ранее не опубликованные материалы: письма, фотографии, фронтовые листки, газеты и стихи. Часть писем предоставили для публикации и на государственное хранение в архив участники войны и члены их семей.
«Письмо — это исторический документ, — считают сотрудники архива, — своеобразное дуновение эпохи. Написанные в перерывах между боями, в краткие минуты передышек, в период тягостного отступления и радостного наступления. Эти листки остаются подлинным голосом с передовой. Только письма могли истинно описывать положение на фронте, впечатления, чисто человеческие отношения. Такого издания раньше не было. Фронтовые письма — это взгляд души. Это память, которую невозможно забыть. Та самая память, которая должна быть передана нашим детям. Это священно, весомо, значимо. Это уважение к тому подвигу, который совершили наши воины».
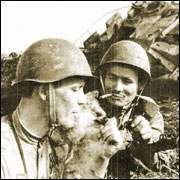
Книжка небольшая — размер, как первые почтовые карточки. И тираж — всего 500 экземпляров. «Но, — как рассказывает составитель Юлия Мартынова, — это специфический материал, особое дополнение к ранее изданной литературе о войне. Где как не в письме раскрывается человек. Письма расположены в хронологическом порядке. Мы хотели показать, как меняются человеческое сознание, мировоззрение, ценности, как люди взрослеют. Настроения первых месяцев войны — эйфория, верили, что война быстро закончится. «Это есть неминуемая и самая ожесточенная схватка двух миров, двух систем. Она будет недолгой, хотя и кровопролитной». «Жизнь у нас веселая, скучать некогда: бьем по фашистам, аж пыль столбом! Расчет Гитлера на молниеносный удар потерпел крах. Наши дают ему так, что, кажется, в будущем едва ли у кого-нибудь появится желание воевать против русского народа. Наша Красная армия держится стойко и… фашизм во главе с Гитлером зароет в землю так, что ни один ученый-геолог не откопает его костей, а мы снова будем жить счастливой жизнью».
В 42–43 годах — тяжелые письма. Чувствуется жуткая солдатская усталость. Досада, что не смогли, не получилось, надежды не оправдались. В 44-м — оптимизм, в 45-м — искринка мести. Даже внутри года мы придерживались четкой хронологии. Ставили задачу — дать русскому солдату конкретные имя и фамилию.
Книга начинается с воспоминаний сельского почтальона Купинского района Новосибирской области Карпец Петра Ивановича, которому всю войну приходилось работать еще и своеобразным психологом. «Разные были письма… Тяжелее была сумка от горьких писем. Конверт с известием о гибели был квадратным, и писал, как правило, его командир части. Почти в каждом слова: «Ваш сын или муж геройски погиб, защищая Родину…» Особенно много «похоронок« было в 1942–1943 годах. Как подойти к человеку? Как сообщить это страшное известие? Невозможно выразить в эти минуты состояние человека, получившего известие о гибели близкого человека.
Были и другие письма с сообщениями о без вести пропавшем. Они оставляли хоть какую-то надежду».
Прежде чем подготовить этот сборник, архивисты просмотрели, изучили очень много писем. «Сначала — плакали, смеялись, поражались находчивости людей. Потом удивлялись — стилю писем (придя к выводу, насколько мы утратили навыки эпистолярного жанра), философии (насколько люди пытались анализировать свои действия, прогнозировать будущее). Все письма об одном — о любви к семье, к Родине — только разными словами. Бойцы писали о фронтовых буднях, о надежде на победу над ненавистным врагом; были письма, где звучала просьба к руководителям района помочь семьям фронтовиков, просьба найти эвакуированную семью; приходили товарищеские письма отстающим рабочим о необходимости подтянуться и выполнять трудовые задания во имя общей победы; затем стали приходить и «Письма победы».
«Стахановцы Отечественной войны»
Письма были официальные и личные. Официальные — это чаще всего коллективные письма в партийные органы; где назывались имена отличившихся бойцов и командиров. Тем самым авторы писем, сами того не сознавая, обессмертили имена своих товарищей.
Часто писали о подвигах сибиряков, о Новосибирском полку Сталинской стрелковой дивизии. «Слово «сибиряки» стало почетным словом. «Сибиряки — это необыкновенные люди«, — так говорили те, кого мы освобождали». А сибирских комсомольцев на фронте даже называли стахановцами Отечественной войны.
Много было писем-обращений к рабочим, колхозникам, сибирской молодежи. Вот письмо-клятва трудящимся Кагановического района города Новосибирска от личного состава 518-го истребительного авиаполка. «…Получая от вас грозные боевые машины и шефское Красное знамя, клянемся вам, что в предстоящих схватках с врагом оправдаем ваше доверие, будем до последней капли крови защищать свою Родину, бить врага до тех пор, пока ни одного немецкого оккупанта не останется живым на нашей земле…»
«Идут невиданные в истории сражения»
Личные письма писали родным, друзьям, любимым, детям. Они потрясающе передают чувства, настроения людей, каждый день встречающихся со смертью. Интересно, но бойцы не любили подробно описывать ужасы войны, страшные бои. Чаще всего в письмах звучала фраза: «Всего, что видели, не опишешь, когда вернусь — расскажу». Но даже по тем скупым строкам многое можно узнать из солдатских писем: «Удивительно, что я до сих пор жив и в строю… Бывало, и не спал сутками. А в течение двух месяцев вообще почти не спал. Пришлось бывать и под пулеметным, и под минометным, и под артобстрелом. Был в обороне, но оборона такая, что с фрицем можно «целоваться». Я собственноручно пятерых «поцеловал«, да так крепко, что теперь не встанут».
Особенно поражает описание боев под Сталинградом. В личном письме секретарю Новосибирского обкома ВЛКСМ бывший секретарь Купинского райкома ВЛКСМ так описывает Сталинградскую битву: «Идут поистине невиданные в истории сражения. Ни битвы за Верден, ни многие бои в империалистическую войну, как я знаю историю, не могут быть сравнены.
По своей жестокости сражения за Сталинград не могут быть приравнены к героической обороне Севастополя, к величайшей битве у Москвы, в которых я был непосредственным свидетелем, ни к горячей и кровопролитной схватке на сопках Хасана, по следам которых мне приходилось ходить. Таких битв, как я понимаю, никогда не было и едва ли когда-либо будут». Этот ужас войны, пишут одни, не смогут забыть никогда, другие, что «здесь привыкаешь абсолютно ко всему. Бомбят — ну и что, это же война. Стреляют — значит так надо».
«Ты увидишь во мне изменения…»
Война сильно изменила людей. На многие вещи они стали смотреть другими глазами. «А ведь цену жизни, красоту ее мы поняли только сейчас…» — говорится почти в каждом письме.
«Я очень изменился, — пишет сын своей маме. — В поезде меня считали пожилым человеком, а медсестра в госпитале дала мне больше 30 лет. А мне через четыре дня исполнится 21 год… Мама, я уже не мальчик тот, которого вы провожали на фронт. Война сделала из всех нас солдат. Мы стали мужчинами… меня война научила ценить людей. Здесь иначе нельзя».
«Я выжил ради тебя, моя радость»
Любовь и война… Эти, казалось бы, несовместимые вещи всегда были рядом. Некоторые письма невозможно читать без слез. «Родная, Верунечка». Дальше идет рассказ, сколько пережил ее муж: как попал в плен, как бежал, как искал наших, пройдя свыше тысячи километров, как несколько раз переходил линию фронта. «Но выжил все же ради тебя, моя радость», — заканчивается письмо.
Трогательны письма Владимира Коваленко своей девушке Нине. Первые послания рассказывают о событиях 1941 года, а последнее — датировано маем 1945-го. «…Судьба пока бережет меня. И я верю, что лучший талисман — твоя верная любовь, которая сбережет меня от всех неприятностей… Твой светлый, любимый образ — путеводная звезда для меня здесь, в далекой от тебя Германии, где каждый куст — враг, каждый дом — мина, отрава, подлог».
Есть и лирика. «Сижу в палатке, продуваемой теплым ветром, мимо летят желтые листья берез, и по-осеннему шумит оставшаяся листва, а это всегда навевает лирическое настроение и желание грустить, вспоминать о доме».
«Кругом царит тишина после дневной «бури«. Я стою один у рощицы, а мысли мои улетели в далекую Сибирь. Вспомнился мне темный лес, который стоит величаво перед закатом, река с зеркальной поверхностью и домики вдоль реки. Вспоминаются тихий вечер, звуки гармони, визгливые напевы девушек…»
«Что ты думаешь делать после войны?»
И несмотря на то, что каждый знал, что это письмо может быть последним, бойцы мечтали о будущем, строили планы. Хотели жить, любить, учиться. Им были интересны любые житейские мелочи: «Напиши, приобрела ли новых пластинок и играет ли патефон». Но почти всегда за личными переживаниями прорывается чувство патриотизма, сопричастности к будущим историческим событиям. «…Хочется жить, хочется участвовать до конца в этой великой борьбе, хочется увидеть ход истории». Кого оставят равнодушными простые строки солдатского письма: «Хочется дожить до победы. Я знаю, что она уже близка».
Письма «как целебный бальзам»
И всегда — с начала и до конца войны солдаты писали, с каким нетерпением ждали они весточки от своих родных, сколько сил придавали им строки, написанные родной рукой, рисунки маленькой дочурки или братишки. «Вы, конечно, знаете, как читаются письма, и как животворяще, как целебный бальзам, действуют они на человека. Он каждую букву, а не то что слово, пьет, как человек, которого измучила жажда; и он припал к источнику, и как это хорошо бывает, если источник светел и чист! С каждой каплей вливаются новые могучие силы жизни. А если нет письма, в сердце заползает злая обида и точит сердце, как червь яблоко». Поэтому вагон писем, как написано в одном письме, бывает важнее вагона снарядов.
Людмила Кузменкина
Газета «Вечерний Новосибирск», 22 июня 2005 г.

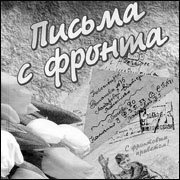
Добавить комментарий