8 февраля страна отмечает День российской науки, который был учреждён указом президента России в 1999 году.
Этот праздник приурочен к дате основания Российской академии наук, учреждённой по повелению императора Петра I указом правительствующего Сената от 28 января (8 февраля по новому стилю) 1724 года.
В СССР День науки отмечался в третье воскресенье апреля, так как в 1918 году между 18 и 25 апреля Ленин составил «Набросок плана научно-технических работ», что явилось фактическим признанием Советами науки. До сегодняшних дней многие научные коллективы отмечают День науки «по старому стилю» то есть в третье воскресенье апреля.
О положении дел в сибирской науке журналистам рассказал главный ученый секретарь СО РАН, директор института химии твердого тела и механохимии СО РАН, академик Николай Захарович Ляхов (встреча проходила в рамках проекта «Встречи на Вертковской»).
– В последние годы появилось несколько проектов, схожих с созданием Новосибирского научного центра: Федеральный университет в Красноярске, Сколково… Как вам кажется, сибирская наука теряет свои позиции или, наоборот, нам есть чем гордиться и о нас, как знали в Советском Союзе, так и знают до сих пор?
-Ответ можно начать с конца вопроса: нам есть чем гордиться и о нас знают даже больше, чем год назад. Знают, благодаря тем результатам, которые мы получаем в СО РАН. Мы никогда не планировали быть вторым Сколково, потому что это большой коммерческий проект, который отчасти повторяет то, что было сделано 55 лет назад в Новосибирске, только поменьше масштабом. Ждать от этого центра чего-то важного, с точки зрения общего развития науки в мире, нам не приходится. Хорошим результатом проекта Сколково будет создание моста между российской наукой и западными технологиями. Наука интернациональна, но нам нужны мосты для общения с крупными, например, атомными компаниями. Мы бы могли приложить свои усилия и получить результаты в области использования научных достижений.
- Как Вы считаете, конкуренция в научной сфере применимый термин?
– Действительно, в науке существует очень жесткая конкуренция. Человек, попавший в эту сферу, стремится занять все более высокую ступеньку.
Если бы конкуренции не было, мы бы имели усредненное научное сообщество, которое не выдавало бы никаких принципиальных результатов, и тогда не было бы научно-технологического прогресса. Мы видим, как за последние 20 лет сильно изменился мир вокруг нас. Работа идет на всех фронтах, и везде конкуренция, которая подогревается потенциальным потребителем. Нельзя забывать, что наука работает не сама на себя, а на рынок. Но движущей силой рынка являются новые технологии, которые выдают новые продукты, которые, кстати, появляются нечасто. Иногда проходят десятилетия.
– Сравните, пожалуйста, в чем мы обогнали зарубежных коллег из того, что было достигнуто в последнее время, а за что «мучительно больно», т.е. было открыто у нас, а параллельно открыто и широко применено за рубежом?
-В области атомной промышленности мы не потеряли абсолютно никаких приоритетов. Трагедия с Фукусимой показала, что наши электростанции надежнее. Я думаю, идет соревнование технологий, которые требуют новых знаний. А в мире не так много стран, которые могут производить эти знания. Их можно перечислить по пальцам: Россия, США, Китай (сегодня он активно развивается и догоняет Российскую академию наук). Вся Средняя Азия пытается сделать то же самое, правда не так успешно, за исключением Индии, которая в отдельных отраслях нас даже потихонечку перегоняет.
Сегодня сфера конкуренции протекает, с моей точки зрения, по количеству вкачиваемых денег. Сейчас очень востребованы биология, биотехнологии, технологии поддержания здоровья, косметика – все, что касается человека, как объекта природы. Это мировой социальный заказ. Наука на него реагирует мгновенно.
– Сегодня в нашей жизни химия заняла прочные позиции. Без нее невозможно представить производство одежды, лекарств и даже продуктов. Правильно это или нет? Все время идет вечный спор натуральных продуктов и искусственно изобретенных. Безопасна ли бытовая химия, которой мы постоянно пользуемся?
-Неправильно во всем обвинять химиков. В начале 90-х годов ХХ века в Европе было даже антихимическое движение, которое привело к тому, что в университетах закрылись многие химические факультеты. Сегодня все возвращается на круги своя. Все поняли, что виноваты не химики, а человек, которому надо все больше и больше. Никакой процесс безотходным не бывает, можно лишь перевести более токсичные отходы в менее токсичные, но в конечном итоге их надо все равно захоранивать. Вопрос «вредности» химических производств и химических продуктов – экономический. Потому что все продается по какой-то цене, которая сегодня конкурентна на рынке, и эту цену ни одна компания превысить не может. Исходя из этой цены, компания должна соблюдать те нормы безопасности, которые к ней предъявляет страна, в которой эта продукция производится. Эти нормы исключительно разные в разных странах. Например, в Германии они очень жесткие, поэтому там все дорого. В Китае все наоборот. Хотя сегодня в Китае этому уделяют огромное внимание, поскольку соседние страны предъявляют им претензии.
В скором времени наши ученые поедут в инженерную академию Китая с поручением от президиума нашей академии наук создать совместный центр инженерной экологии. Это признание того факта, что у нас есть общие проблемы в этой сфере.
Если говорить о безопасности производств, то здесь должен быть иной подход. Например, мы обследовали цементный завод в Искитиме. Казалось бы, вредное производство, но когда мы сравнили с действующими нормативами, вышло, что это очень чистое предприятие. Этому никто не поверит, глядя, как из трубы валит черная дымка.
Если мы не сумеем создать в России нормальный бензин, нормальные двигатели, с нашего рынка уйдут сначала автомобили, а потом и самолеты.
– Ученые принимают участие в создании государственной политики по вопросам безопасности предметов в быту?
– Я лично ставил вопрос об утилизации экономных ламп, потому что закон надо тормозить, ведь сбор ламп не налажен нигде. Сегодня мы сознательно увеличиваем ртутное загрязнение. Кроме законодателя никто с этим справиться не может.
У нас в стране нет производства пластмасс, поэтому мы ввозим огромное количество пластиковых бутылок. Из этих бутылок, мы химики, можем сделать прекрасный строительный материал от отделочной плитки до теплоизолирующих стен внутренних перегородок. Пластику можно придать долговременную жизнь. А мы бутылки несем на мусорку и, что самое страшное, потом все это сжигаем. Горящая пластмасса очень ядовита, мы травим себя жесточайшим образом. Проблема только в одном: приучить людей сдавать эти бутылки. И тогда можно наладить переработку мусора.
Это должен сделать законодатель на уровне местных законов, а не Государственная Дума. К сожалению, у нас понятие муниципальных законов отсутствует.
– Можете ли открыть секрет, что из того, что мы сейчас считаем фантастикой, лет через 5-10 может стать реальностью?
– Сегодня одно из ключевых направлений развития химии – это химия источников тока – накопителей энергии. Эта цель, которая сегодня ставится многими государствами, точно будет достигнута. Я не знаю, завтра или послезавтра – все зависит от открытий. Движущей силой этого направления будут, скорее всего, электромобили.
В последнее время мы часто употребляем слово инновации. Но в слове инновации два смысла. Сами по себе инновации появляются редко: три-четыре инновационных продукта в столетие. Вспомните самолет, телефон, телевизор, атомную бомбу… Мобильный телефон сегодня остался телефоном, хотя он становится шире, уже и т. д. Это экстенсивное развитие. Но нового качества не появилось. А вот инновация в российском смысле слова, которую мы сегодня применяем в обиходе – это путь идеи до потребителя. В этом плане есть масса проблем. Вся беда в том, что мы многое можем предложить, но не можем пробиться на рынок по разным причинам. Это отсутствие системы. Производителю всегда интересно то, что покупается. Если вы создаете новое лекарство, тем более, что это лекарство не новое, а созданное по другой технологии и обладающее дополнительным качеством (наш институт именно такими лекарствами занимается), то конечно оно будет востребовано. Зачем его ввозить из Англии, если можно производить в Новосибирске, наверняка, будет дешевле. Но проблема в том, что производителю нужен готовый продукт, упакованная разработка. Есть две проблемы: сертификация и разрешительная система. Но, чтобы запустить даже опытную технологию на небольшой объем, мы должны получить от 5 до 10 разрешительных печатей. Это требует немалых средств и длительной работы.
– Как бы Вы охарактеризовали этот процесс: бюрократия или есть опасность что-то пропустить? Во многих странах этот процесс намного проще?
– Да, во многих странах процесс намного проще. Отечественный производитель попадает под другие законы. Наши заявления находят понимание, но не решения. Мы теряем рынок. В 90-годах в фармацевтику пришли западные фирмы, скупили наши предприятия, поработали на них, потом побросали. Произошло, по сути, разрушение фармацевтической промышленности, хорошо хоть не в Новосибирске и в Новосибирской области. Сегодня готовится программа по восстановлению фармацевтики в тесном взаимодействии с наукой, у которой очень много интересных предложений. Например, у нас в институте на выходе препарат, который известен как Денол (противоязвенный препарат). Мы получили лицензию на производство субстанции. Но таблетки будут производиться в Москве.
– Если бы система была несколько проще, можно было бы ожидать некоего прорыва?
– Несомненно. Многие разработки лежат на полке и даже имеют сертификаты. Сегодня у нас в стране законодательно разделены сертификаты разработчика и сертификаты производителя. От этого все проблемы. С присоединением России к ТНМП стандарту, сейчас в Новосибирске появляются цеха, где можно осваивать новые препараты и препараты, произведенные по новым технологиям. Мы сейчас в десятки раз можем понизить дозировки при сохранении терапевтического эффекта. Ведь лекарство не только лечит, но часто наносит вред. Сегодня наш институт разрабатывает новый, более эффективный препарат для лечения описторхоза.
– Каковы достижения химиков Вашего института за последнее время?
-Многие результаты относятся к пограничной сфере с биологией. Есть серьезные достижения в определении молекулярных механизмов болезней, создании метода анализа крови, много фармацевтических разработок, интересных результатов по наноматериалам.
Наш институт и инстиут ядерной физики изобрели углеродные нанотрубки. В народе их называют еще нанорожками. Главное, кто первым найдет им хорошее применение.
Мы выиграли две федеральных целевых программы. Одна из них по приготовлению порошков ремодификации стали и чугунов, которые превращают сплавы в наноструктурированные сплавы, превышающие в 1,5-2 раза их прошлые характеристики.
Вторая программа касается биотоплива. Будем надеяться, что она будет реализована.
Подготовила Людмила Кузменкина.

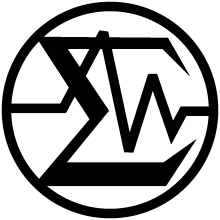
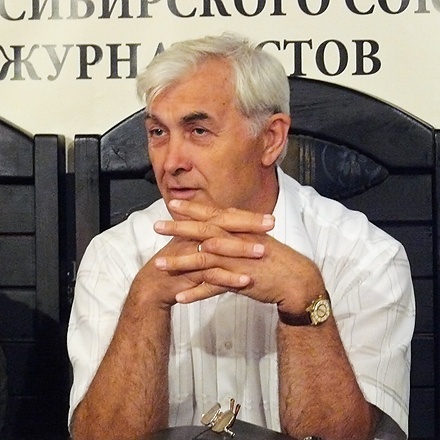
Добавить комментарий